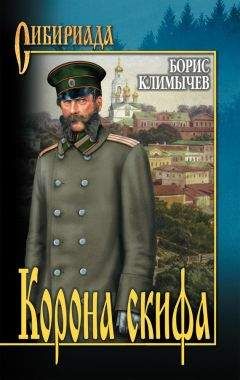— Тебя как зовут?
— Палашка.
Она мельком взглянула на Леху Мухина, лицо стало наливаться румянцем.
— Искусство живописи любишь? — спросил Жевахов. Она молчала.
— Живопись надо любить! Сейчас ты прекрасна, но так будет не всегда. А художник своей кистью останавливает время. Он трогает полотно кистью и на века оставляет тебя на полотне такой, какая ты теперь есть. Это единственный на земле способ вечной молодости.
Леха Мухин невольно насупился. Князь посмотрел на него с иронией:
— А ты вырос! Я помню, как ты еще совсем сопливым юнцом растирал у меня в мастерской краски. Кто, как не я, дал тебе первые уроки живописи? Сам я давно не пишу портретов. У меня есть мечта написать лунный пейзаж при помощи подзорной трубы. Как только будет свободное время, обязательно этим займусь. Ну, веди нас в мастерскую, и ты, Палашка, шагай за нами, будешь служить натурой. Это почетно — позировать художнику! Еремей! Подай в мастерскую шампанского!
В мастерской Мухин бросился к мольберту, поспешно снял с него полотно, поставил на пол лицевой стороной к стене.
Князь сказал:
— Ну-ка, ну-ка, что там такое?
Мухин смутился:
— Картина неготова, вы сами наказывали, картину не вывешивать на обозрение, пока не будет на сем полотне сделан последний штрих.
Барин молча отодвинул парня, взял полотно и поставил на мольберт. С картины глядела Палашка. Мухин тщательно выписал каждую черточку её лица, а складки сарафана незаметно обрисовали юную фигурку. Это был только намек. Но недосказанность говорила так много! Так дразнила, так звала!
Жевахов воскликнул:
— Ага! Она уже однажды позировала! А может, и не раз? Тем лучше! Значит, есть опыт.
Он налил бокал шампанского и поднес Палашке:
— Пей! Оно сладкое!
Палашка стала пить, поперхнулась, а князь протянул ей румяное яблоко.
Палашка выпила вино, а яблоко лишь надкусила.
— Ну, фея Ибряшкинских прудов, прекрасная моя, — проникновенно сказал князь, — сними сарафан свой, и всё, что под сарафаном, мы с тебя будем рисовать Венеру, а Венеры всегда бывают голыми, как в бане. Не веришь, так хоть француза спроси.
Палашка покраснела до слез и сказала:
— Никак невозможно, барин, помилосердствуйте!
— Когда князь Жевахов говорит — всё возможно! Делай, что говорю, не то прикажу высечь на конюшне! Там уж тебя разденут силой, да еще всю шкуру спустят! Со мной шутки плохие, пора бы всем в Ибряшкине это знать.
Палашке стало ясно, что князь вовсе не шутит. Она затряслась от рыданий и с плачем проговорила:
— Пусть иные особы мужеского пола все прочь выйдут.
— Да зачем же они выйдут? Алексей ведь тебя рисовать будет, а я ему помогать в этом. А француз на своей родине столько обнаженных Венер видел, что ему это не в диковину.
Палашка сняла сарафан, а рубаху снять не решилась.
— Ну, милая, что за манерности такие, — сказал князь, подойдя к ней и снимая с нее рубаху, — ты нам нужна в натуральном виде.
Палашка тотчас положила свою ладошку на определенное место, да еще и повернулась ко всем спиной.
Князь застелил кресло ковром, поднял Палашку за талию, и усадил на ковер, развернув её фасадом к зрителям. И строго сказал Палашке:
— Руку оттуда убери, подопри ею щеку, а другая твоя рука пусть на коленке лежит. Ну что ты слезы льешь, как воду из колодца? Алексей сейчас тебя писать будет. Алексей, валяй!
Лицо художника пошло багровыми пятнами. Но он принялся писать. Редко взглядывал на Палашку и тотчас отводил глаза к холсту. Палашка проявлялась на холсте быстро. Жевахов развалился на старом диване и, довольный, поглядывал на работу художника. Томас стоял ни живой ни мертвый. Сердце его колотилось где-то в горле. Впервые видел он такое прекрасное обнаженное женское тело. И то, что Палашка стеснялась до обморока, приводило его в особенное возбуждение. С этим трагически-милым выражением личика она была прекраснее многих Венер. Никогда высокое искусство не сможет состязаться с живой природой. Но в живом все постоянно видоизменяется, а в искусстве запечатлевается раз и навсегда.
Мухин уже начал прорабатывать детали, когда граф вскочил, вырвал у него из руки кисть:
— Все! Ступай! Это место я пропишу сам!
Он вглядывался в Палашкины тайны так ощутимо и жарко, что она опять пыталась загораживаться ладошкой. Он гневно вскрикивал, и Палашка убирала руку. Он выписывал всё тщательно и вдохновенно.
Девильнева уже не держали дрожавшие ноги, он рухнул на диван. Казалось ему, что на его глазах совершают насилие. Он нашарил откупоренную князем бутылку шампанского и начал жадно пить.
Палашка была уже в изнеможении, когда барин бросил кисть на пол, развернул к Палашке холст:
— Смотри!
— Стыдно, барин, так над девицами изгаляться! — сказала Палашка. — Можно, я оденусь?
— Одевайся не одевайся, ты ныне на века раздета! — воскликнул Жевахов.
— Вот это мне и конфузно!
Жевахов оборотился к Томасу:
— Что? Какова картина?
— Мне жаль девицу, она так смущена! — невольно сказал Томас.
— Гран мерси, месье! — ответила из-за ширмы Палашка.
— Однако! — воскликнул Жевахов. — Где же ты научилась по-французски?
— Здесь, в усадьбе, — отвечала Палашка, — еще маленькой девочкой ваш папа взял меня в дом, сказав, что я есть цветок, и потому буду приставлена ухаживать за цветами. Он учил меня говорить, читать и писать по-французски. И называл украшением дома.
Поля вокруг Ибряшкина зазеленели всходами. Возле барского дома все запестрело цветами. Гремели грозы и шли дожди. Потом вновь выглядывало солнце.
Несколько раз Томас встречал в доме Палашку, она то спешила с лейкой в оранжерею, то сидела с другими девушками за рукоделием. Никак не удавалось застать её одну, чтобы сказать комплимент.
Однажды вечером Томас слышал, как Палашка пела под лютню. Он был поражен тем, как славно звучало её пение, в нем были и одаренность, и талант.
Пробудитесь, я жду вас, красавица,
Рощи новой листвою кудрявятся.
И природа с искусством затеяла спор,
Расстелив на лугах пестроцветный ковер.
Девильнев продрался сквозь ветви шиповника, кашлянул. Палашка вздрогнула и оборвала пение.
— Пардон, мадемуазель! Откуда вы знаете стихи Франсуа де Малерба?
— Меня старый барин читать по-вашему обучил. Много книг. Я сама подбираю музыку на стихи. Мне видятся лазурные берега, напоенные ароматами роз. О месье! Я думаю иногда о том, почему один человек рождается простолюдином, а другой благородным. Разве в моем сердце не может быть благородных чувств?
![Борис Климычев - Сибирский кавалер [сборник]](https://cdn.my-library.info/books/8593/8593.jpg)